
Каланьи берега

Каланьи берега
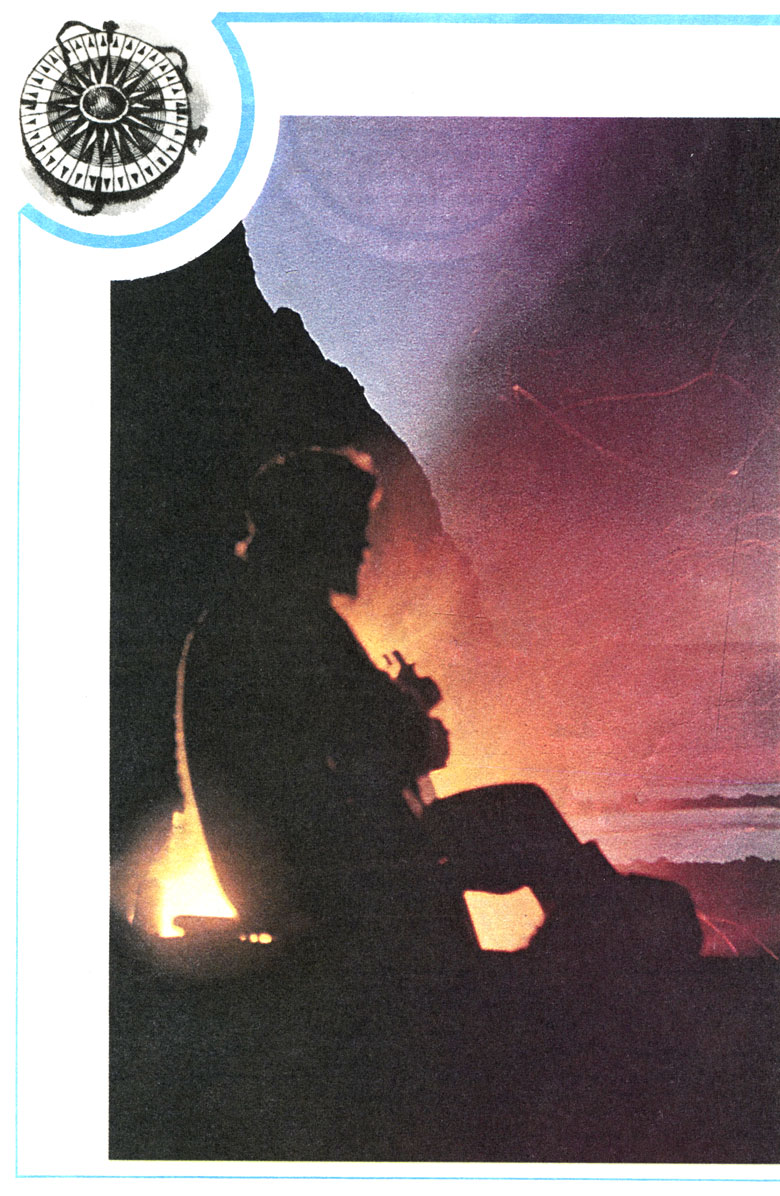
Каланьи берега

Каланьи берега
Итак, пройдя по острым и крутым хребтам Юго-Восточного мыса, я спустился на перешеек, затем на берег и уже без особых осложнений, если не считать бесконечного шараханья между разновеликими глыбами и прыжков с камня на камень, добрался до хижины биолога Бориса Хромовских. Скажем, так: то был достаточно благоустроенный и прочный для этих мест домик. Как-то меня примут в нем? Ведь Хромовских не был предупрежден о моем приходе. Я рассчитываю только на то, что человек любого характера и образа жизни, обитая в одиночестве, скорее обрадуется временному гостю, чем огорчится. Но все это одни предположения, а на самом деле я немного волнуюсь, потому что, кроме имени и фамилии "хозяина" бухты Глинки, решительно ничего о нем не знаю. Еще я волнуюсь из-за того, что могу не застать его дома - может, ушел куда-либо "в остров".
Наверное, так же волновались Вильям Лафлин и его спутник, американские студенты, когда их высадили на берег и пришлось непредвиденно задержаться. Тут ведь обычно погода "правит бал", диктует свои условия... Подходили они к домикам селения не без внутренних сомнений - какое к ним выкажут отношение? В Глинке - и вдруг американцы! Но обошлось. "Какие-то добрые люди заметили, что мы одни и голодны,- сорок четыре года спустя пишет мне Лафлин. - Поэтому они пригласили нас в свой дом и угостили хлебом и чаем".
Эти люди были алеуты-промысловики, возможно, и кто-либо из русских. Они не только накормили подуставших и проголодавшихся парней, но и развлекли их музыкой, поставили пластинку со старой американской песней "О, Сюзанна", очень кстати оказавшейся в запасе. Как замечает Лафлин, хотя песня была спета на русском, названия штатов Алабама и Луизиана звучали вполне по-английски. (Помнятся и мне с довоенной поры ее разрозненные строчки: "Красная, красная роза была у нее в руке - и слезы были у нее на глазах... О, Сюзанна, не плачь обо мне, я иду в Луизиану со своим банджо у колена".)
Накануне исследовательская шхуна Хрдлички стояла вблизи села Преображенского. Вся свободная от вахт команда сошла, на берег. Сергей Илларионович Сушков, Николай Николаевич Добрынин да и другие медновские старожилы хорошо помнят самого Хрдличку ("Такой, знаете, с рыжей бородкой"); студентов, конечно, не помнят. По вечерам в клубе затевались танцы, Николай Николаевич играл на мандолине, была еще и гитара - вот, значит, оркестр из двух инструментов... Научный персонал, штурманы, механики танцевали с алеутками фокстроты и танго. Матросы, правда, больше к печке жались, не рискуя выходить в круг, да, может, им и не велено было.
Капитан этой белой шхуны и вовсе съехал на берег, поселился у алеута Зайкова, угощал его детей невиданно большими "мандаринами" (грейпфрутами?).
Потом шхуна ушла в Корабельную бухту - там предстояли раскопки. Чуть позже, видимо, и попали в Глинку Лафлин со своим коллегой, имевшие самостоятельное задание. Как пишет мне ныне Лафлин, их "объезд островов был очень интересным и богатым информацией".
А Хрдличка в те далекие дни оставил адресованное Алеутскому райисполкому прощальное письмо с такими, в частности, словами: "Мы столкнулись с отсутствием... всякого различия между людьми различной окраски. Мы видели хорошо воспитанных людей в такой маленькой коммуне. Мы остаемся благодарны друзьям и оставляем лучшие пожелания каждому".
Мне повезло: в домике тихо играет приемник. На стук хозяин открыл не сразу - думал, что почудилось или собака царапается.
Передо мной стоял высокий рыжеватый парень с несколько утяжеленным лицом, привлекательным как раз своим "необщим выраженьем". Он не удивился, увидев незнакомого человека, - заглядывает в Глинку кое-какой народ, хотя и не часто.
- Да, да, я слышал о вас, - говорит он после того, как я представился. - Живите, пожалуйста.
- А ничего, если я дней, может, на десять?
Мы уже зашли в кухоньку, где жарко топится печь; блестит на полках в углу кухонный инвентарь, на столике тихо, с хрипами, воркует "Спидола", а со стенки знакомо смотрится репродукция "Девочки на шаре" Пикассо (спасибо "Огоньку", что практикует такие вкладки,- они украшают ныне стены почти всякого жилья, и особенно в деревне, краю света, где-нибудь даже в палатке или вагончике изыскателя).
- Пожалуйста, живите сколько угодно, - говорит Борис. - Вот, кстати, поможете метить каланов, а то самому мне трудно будет с ними справиться. Вы, наверное, есть хотите? Я, правда, недавно пообедал, но мы сейчас сообразим, печка топится...
Мне здесь нравится; впрочем, при хорошем ветре этот домик, хотя он как будто и не очень давней постройки, наверняка ходит ходуном и изо всех щелей дует, но сейчас в нем чинно и тепло.
Пока Борис тушит в продолговатой гусятнице картошку и варит кофе, прохожу в смежную - жилую и рабочую - комнату. С потолка здесь свисает огромный оранжевый шар, надувной, завинчивающийся - он отсвечивает как диковинная люстра в темноватом, еще не прогревшемся после зимы домике. Японские рыбаки используют такие шары для обозначения выставленных в море сетей. Все шары яркого цвета - чтобы в толчее волн сети просматривались издали. Выбрасываемые штормовыми накатами на берег, они становятся желанной добычей охотников до сувениров.

Бухта Глинка, облюбованная каланами
Около окна стоит на мощных бамбуковых ножках сколоченный из досок стол, на столе навалены рукописи, желтеет оплывшая свеча и открыта с листом бумаги в каретке пишущая машинка "Олимпия". Борис перед моим приходом как раз сидел за ней. Он пишет не торопясь каждый день, по крупицам собирая и регистрируя наблюдения, оценивая их с точки зрения биолога.
Здесь же - кровать и топчан.
Одиночество Бориса скрашивает потешный щенок Кулема.
Спрашиваю, что бы значило это имя.
- А вы как думаете?
- Ну, я бы сказал, этакий неумеха, лопоухий...
- Нет. Кулема, кулемка - это ловушка для мелких зверьков.
- И что же, оправдывает он свое имя?
Борис смеется, треплет щенка за ухо.
- Боюсь, что пока нет. Но надежд не оставляю.
Ночью Кулема нет-нет да и ворчит на мои кеды - черно-белые, яркие, они навевают щенку какие-то, быть может, не совсем приятные ассоциации. Утром все разъяснилось.
- Тут мне ребята с сейнера принесли ипатку и топорка, - рассказал Борис - Уж не знаю, как они их раздобыли. Просили, чтобы чучела я им сделал. В той комнате большую такую клетку видели? Это я соорудил, чтобы отловить одного либо парочку приболевших каланов и проследить за ними. Правда, что-то я здесь больных каланов в этом году не наблюдаю. Ну так вот, ипатка и топорок жили в этой клетке вместе, но ничего не ели и между собой не общались, дичились друг друга. Вот поди ж ты, а как будто птицы родственные, да и внешне почти схожи. Так вот, ваши кеды, должно быть, напомнили Кулеме ипатку. Было тут, ой!.. Щенок подошел к ипатке, не подозревая худого, а клюв у этого попугайчика дай боже. Топорик, одно слово. Как она его тюкнула этим топориком по носу - и нос защемила, и прибила к нижнему клычку губу, клычок через губу вылез - ну, тут Кулема заверещал и к себе с визгом на подстилку. Не может, бедняжка, вытащить клычок из губы, и все тут. Еле я разобрался, в чем дело, и освободил его от этой напасти.

Научный десант: предстоит подсчет каланов

Как туда пройти?
Попив кофе, берем фотоаппараты и идем на лежбище. До береговой залежки каланов минут двадцать хода.
Мало-помалу узнаю кое-какие подробности о них (позже мне в этом помогли и книги, и отчеты наблюдателей-звероводов).
Калан - единственный представитель семейства куньих, ведущий водный образ жизни. Его еще называют морским бобром или выдрой. Щенки именуются медведками, а годовалые - кошлоками.
Шкура ценится из-за высокой плотности меха, причем густая подпушь достигает у калана длины остевых волос. Под мышками и на груди складки, потому, если сам калан достигает полутора метров длины, снятая с него шкура иной раз вытягивается до двух. Короче говоря, мех калана по качеству, носкости и красоте не имеет себе равных.
Стеллер свидетельствует, что каланы у острова Беринга когда-то плавали многочисленными табунами. В середине XVIII века их ежегодный промысел составлял примерно тысячу голов. Котов, как мы уже знаем, даже и не били тогда, но вскоре промысел каланов катастрофически упал, их стадо было почти полностью истреблено. Почти на сто лет покинули они острова, а потом стали появляться снова. В 1924 году охота на них была запрещена - действие запрета длится и до сих пор. Это была очень своевременная мера: в стаде осталось не больше 350 зверей. Прошло не одно десятилетие, прежде чем численность каланов начала как будто неуклонно повышаться.
Мы вскользь толкуем обо всем этом, а Кулема беспечно трусит сзади. Иногда забегает вперед, что-то вынюхивает, потом опять занимает место в арьергарде. Вдруг он отчаянно взвизгнул. Оказывается, песец цапнул нашего доблестного песика за ляжку. Кулема даже не рискнул огрызнуться.
- Ай да Кулема - ловушка для мелкого зверя! - хохочу я.
Борис принимается стыдить щенка, а тот лишь виновато виляет хвостом, чувствуя, что оказался явно не на высоте. Маленькое это происшествие на время отвлекло наши мысли от предстоящей встречи с каланами. Вскоре Борису нужно пометить нескольких зверей - задача довольно сложная,- немудрено, что мысли об этом не дают ему покоя.
- Э, черт, калан все-таки хищник,- роняет недовольно Борис,- укусит так, что и кость хрустнет.
Каланов в Глинке метили только раз и всего двух - кажется, еще в 1961 году. Борису хочется провести второе мечение посолидней, ну, пометить хотя бы каланов двадцать - как раз и в плане эта цифра утверждена начальством. Да вот как его метить? Ведь поймать калана можно только на берегу спящего, сачком или сеткой, а пометить нужно так, чтобы не встревожить стадо. Каланы крайне чувствительны к внешним раздражителям. Возьмет и уйдет стадо из этих мест.
Не разобрать, откуда ветер дует; у каланов между тем сильно развито обоняние (слух на втором месте; зрение лишь на третьем).

А что за тем мысом?
- С этим ветром беда,- жалуется Борис- Сплошное какое-то кружение. Идешь на ночное дежурство, вроде ветер как надо, с моря, а в час ночи повернет - и каланы все в море, естественный суточный цикл нарушен, не прослежен до конца. И так каждый раз.
Каланы учуяли нас метров за двести или даже за триста: их как не бывало.
Усаживаемся на удобные, как бы нарочно приспособленные для лежки "бобровые камни". Чуть поодаль, за отливом, возвышаются сглаженные волнами рифы, защищающие этот уединенный уголок от штормовых накатов. Каланы сильно привязаны к местам обитания - это диктуется и удобством залежек, укрытых от бурного моря, и кормовой базой, достаточно богатой в данном месте, чтобы стадо могло безбедно жить здесь многие годы. Неутомимый исследователь животного мира Курил Алексей Белкин (трагически погибший) приметил, между прочим, что вновь расселяющиеся там каланы облюбовали именно те двадцать два острова, на которых их промышляли еще в конце прошлого столетия. Причем каланы не только отыскали эти "и х" острова, но и заселили и обживают именно те камни, которые когда-то занимали прародители.
А Борис все грустит, обозревая пестро разукрашенные выемки опустевших камней.
- В мае и до половины июня я не мог на лежбище зайти,- каланов всюду было навалом среди камней. А сейчас вода потеплела, и они почти совсем не выходят, разве только ночью, Теперь, пожалуй, разве шторма придется ждать. Эх, неужели сорвется мечение?
Нам ничего теперь не остается, как только наблюдать за ними в бинокль: каланы уплыли довольно далеко в море, минуя прибрежные заросли капусты.
- Как кучно они держатся,- говорю я, опуская бинокль, - прямо в комке там все.
- Чувство локтя,- улыбается Борис - У них не то, что у котов. Вообще я видел однажды двух косаток поблизости - ну, думаю, сейчас будет картина. Однако даже разочаровался немного - и косатки прошли мимо, и каланы на них не отреагировали, а ведь вроде это их злейшие враги. Не заметили друг друга? Но ведь движение в воде обоюдно должно было вызвать какие-то динамические и акустические явления. Положим, косатки могли быть сыты - значит, тогда каланы оказались не начеку. Представляете, что было бы, если бы косатки ворвались в эту гущу каланьих тел?
Впрочем, не все каланы держатся в дальнем стаде - некоторые плавают близко от берега, ныряя в зарослях капусты. Борис склонен считать, что это престарелые звери, которым в стаде почему-либо трудно ужиться, выдерживать его рабочий ритм.
Чаще всего в эти дни я с тоской сердечной - ведь даже телеобъективом не достать! - наблюдаю именно за такими одиночками. Забавно смотреть, как зверь, нырнув за ежами или ракушками, кладет их потом к себе на грудь. Ежей он грызет, лежа на спине, и аккуратно выплевывает кусочки панцирей. Поскольку грязи и мусора он совершенно не терпит, то раз от разу переворачивается, чтобы смыть шелуху. При этом, как следовало бы ждать, остальные ежи не сваливаются, не тонут - лапки у него цепкие, пожалуй, он даже иголку смог бы схватить и удержать.
Прошлым летом Борис возился в домике с больным каланом. Когда калану захотелось пить, он дал ему воды в тазике, но, неуклюже ткнувшись туда головой, зверь тазик перевернул. В то же время он слышал и, возможно, видел, откуда Борис наливал в тазик воду, и полез в ведро. Чтобы он не опрокинул ведро на себя, Борис придерживал дужку. Калан тянул ведро к себе упорно, пока не окунул мордочку и не напился. После этого не пожелал выпускать его из лапок. Он был очень больной и через несколько часов умер. Но едва ли не до последней минуты оставался все же довольно сильным - каланы вообще сильные.
- Калану только дай, он может и с осьминогом справиться,- заметил по самую макушку влюбленный в них Борис - Для него это даже лакомый кусочек, осьминогов он обожает.

Одинокий баклан
К калану и впрямь невозможно относиться безразлично. Умные звери. Ловкие звери. Природа позаботилась об их миролюбии, почти лишив их той мощной жировой прослойки, какою, например, располагают котики. А тот весьма незначительный жир, что все же есть у каланов, не служит им теплоизолятором, эту функцию несет великолепный по своим качествам мех. Котики могут драться сколько им влезет, у них под кожей жир, раны им, особенно секачам, не так уж и вредят. А раненый калан сразу истечет кровью - какая уж тут драка, процветанию вида она не послужит, разве только его убыли... Как образно заметил Борис, каланы живут в стеклянных домиках, поэтому камнями не бросаются. Странно, что при таком образе жизни и явном миролюбии именно калан относится к морским хищникам (наряду, скажем, с белым медведем).
Но какая разница в отношении к потомству у каланов и у тех же котиков! Каланы в своих детенышах души не чают. Как-то год или два спустя я собрался с Дмитрием Чугунковым на фотоохоту. На главную бобровую залежку Хромовских, конечно, никого не пускал. Пошли на мыс Дровенской, загроможденный рифами. Один из них, узкий, зазубренный, как истончившийся нож, уходил далеко в море. Во время прилива он полностью скрывался под водой - и потому весь был облеплен зелеными водорослями.
Нам повезло: у рифа в капусте роился целый табунок каланов. Поодаль плавала матка с медведкой. Что было делать? "Оседлали" скользкий риф и, помогая себе руками, припадая к сырому камню всем телом, медленно поползли на его оконечность. Брюки враз промокли, рубашка тоже прилипла к животу, плащ опасно потрескивал. Слякотно, стыло... Редко удается в Глинке снимать каланов с такого расстояния - там, поди, и тридцати метров не было. Ожидая любопытного момента в поведении зверя, взведешь затвор фотоаппарата и смотришь - как в подзорную трубу. Вот мать нырнула за ежами, а медведка остался на поверхности, лежит неподвижно - ни дать ни взять мохнатый коричневый поплавок.
Медведкой зовут детеныша не зря: сходство с медвежонком издали полное. Да и мамаша со своим чадом обращается словно девчонка с плюшевым мишкой: лежа на спине, поднимает его над собой, крутит и так и эдак, растирает, лижет любимому дитяти мордочку. Наконец медведка не выдерживает: вырвавшись из цепких объятий матери, бежит по ее животу и плюхается в воду. Торжествует, лежа неподалеку. Мать угомонилась, решила заняться собственным туалетом: отжиманием складок "шубы", взбиванием их, даже как бы легким массажем... Тщательности, с какой она это делает, позавидуешь.
Тем временем Чугунков в свой "телемар" увидел сценку позабавней. К каланихе, на животе которой лежал медведка, подплыл самец - скорее всего папаша. Дружелюбно обнюхался с супругой. Но медведка учуял в этом безобидном акте какую-то если и не агрессию, то все же явное посягательство на его неоспоримые права. Он часто-часто начал лупить калана кулачками по морде. Калану пришлось заплыть с другой стороны - видимо, дело было неотложное. Медведке как поступить? Драться опять не решился, как бы не вышло хуже, - обхватил преданно мамку за шею, притих... Мы и вовсе замерли, разве только щелкали затворы камер.
Бориса терзают между тем сомнения:
- Беспокоит вот что,- говорит он мне, когда мы как-то вновь - и по-прежнему безуспешно - навестили каланье лежбище, - беспокоит, что приплод калана, по моим наблюдениям, превышает прирост. Да, да, среднегодовой прирост весьма незначителен.
- Но ведь возросло же стадо за сорок с чем-то лет от трехсот пятидесяти до полутора тысяч голов! - восклицаю я. - Даже до двух как будто...
- Возросло, конечно, - пожимает плечами Борис- Вы видели, как в сутолоке на Северном или Юго-Восточном лежбище секачи давят черненьких? У калана же совсем иная картина: самка с нежностью относится к детенышу. Все ему: и лучший корм, и условия, и он постоянно на спине у нее, когда та плавает. Практически болеть детенышу, когда он окружен такой заботой и профилактикой, неотчего. И мы совсем не имеем случаев, когда бы мертвых - предположим, от какого-либо заболевания или увечья - детенышей выбрасывало на берег. Скорее выбрасывает стариков. Вот на этом лежбище замечательные условия для наблюдения за каланом. Пожалуй, такого места нет нигде больше в стране. Здесь их можно наблюдать почти впритык к берегу, можно фотографировать, - для этого, помню, мне пришлось одного тронуть палкой, чтобы проснулся и голову поднял,- так вот, на этом лежбище или залежке, вероятней всего, одни холостяки, а может быть, холостяки и неполовозрелые самки. Во всяком случае, я не видел здесь ни одной самки с детенышами. Возможно, они уходят в другие стада щениться - там, кто знает, спокойней жизнь, там у них что-то вроде яслей,- словом, только самки с детенышами? А? Может же так быть?
- Не знаю. Но вот вы все же с мечением затеваетесь...
- Мечение, кстати, и помогло бы установить пути перемещения каланов хотя бы вдоль медновских берегов, местные миграции, если они существуют. Ведь нам почти ничего не известно, не знаем даже толком, полигамы они или моногамы. Видите, во-он группка в море - чем-то это разъединение стада на группки, возможно, обусловлено? А эти вон на ближней скале, явно чуя наш запах, тем не менее в воду не сползают, им уже все равно. Старики часто подобным образом обосабливаются, остаются наедине со своими болячками, со своей старостью. Да и в стаде более пожилые особи не очень-то охотно лезут в воду, чуя непривычный запах,- это молодежь паникует, страсть как она полохлива.
Я осторожно спрашиваю:
- А как насчет промысла, до него еще далеко?
Борис презрительно хмыкает - похоже, что сама постановка такого вопроса его уже раздражает.
- Какой там промысел! Стадо увеличивается медленно. Речь может идти лишь о выбраковке стариков, больных, увечных. Все-таки это и государству прибыль, и стаду не в убыток. Кстати, статью К. об искусственном расселении каланов читали?
Читал. Но пока помалкиваю. Слушаю.
- Ведь что получается у К.? - сердито вопрошает Борис- На Командорах стадо насчитывает около двух тысяч каланов - и это, мол, переизбыток, зверю недостаточно кормов, так или иначе он будет дохнуть, надо начинать промысел. Но на чем К. основывается, как он определил, что кормовая база подорвана? Грубо говоря, он ее видел, эту базу, нырял, подсчитывал ежей и моллюсков? Да и откуда он взял, что полторы-две тысячи каланов - это потолок численности стада, предел популяции? Каланов здесь может быть и три, и четыре, а то и все шесть тысяч.
Гибнет много зверей? Кто сказал, что много? Обычно в течение года с Медного поступает восемь-двенадцать шкур каланов, будто бы подобранных на лайде. Но все ли эти звери были больные или павшие? Напомню, что за них платят приличное вознаграждение - за находку зверя и обработку шкуры. Вот жили однажды зимой в Глинке алеуты - промышляли песца. Привезли в село, кажется, восемь шкур каланов - в большинстве удивительно хорошей сохранности. Где взяли? Нашли на лайде павших и увечных. А не может ли так быть, что между увечными и здоровых прихлопнули? Вполне. Я потом расспрашивал в селе, говорят - вроде больные, вроде старые. Вроде!

Солнечное утро. В заливе водорослевые поля, в которых любят резвиться каланы
Нет, братцы мои, у выброшенного калана шкура вряд ли хорошо сохранится. Не успеешь к зверю прийти в первые несколько часов, иногда в первый же час - и пиши пропало, песцы свое дело сделают. А тут все шкуры целые! И уж кто-то ссылается на эти цифры - допустим, восемь выброшенных каланов в месяц, девяносто шесть в год, да только в районе Глинки, а сколько их по всему острову неучтенных? И от этой сомнительной посылки танцуют и уже, глядишь, пишут диссертации, ссылаясь на К. либо на кого-нибудь еще... Бац - и вот вам почти директивно указан предел стада! Но позвольте, кто все-таки проверял достоверность начальной цифры? Оказывается, никто.
Разошелся Борис, вон какой монолог выдал. Да ведь и прав во многом. Ну что вот за бездоказательное утверждение у автора статьи, из-за которой загорелся весь этот сыр-бор: "...Из стада каланов, обитающего на о. Медном, практически ни одно животное до сих пор не проникло на соседний о. Беринга"? Подобно Хромовских, я тоже вправе спросить: откуда это известно? Автор ссылается на историографа Василия Берха, который еще в начале прошлого века писал: "Бобры не могут пробыть долгое время в море...", и на американского биолога Кеньона: "Калан никогда не выходит в открытое море". В открытое море - возможно: ему там делать нечего. А вдруг есть основания считать, что выходит далеко в проливы, хотя в целом это для него не характерно? Летом 1962 года, будучи в составе одной экспедиции на шхуне "Геолог", я видел нескольких каланов почти на полпути между островами Чиринкотан и Райкоке (Средние Курилы). Расстояние между этими островами было пройдено шхуной за четыре-пять часов (при скорости в семь узлов). Теперь легко подсчитать, в открытом море были каланы или у берега. И вообще, каким образом они вновь расселились по островам Курил, не преодолевая проливов между ними?
(Несколько лет спустя было получено подтверждение тому, что уж проливы-то каланы преодолевают свободно, в частности, и пролив между островами Медным и Беринга. Единичных каланов на острове Беринга встречали и прежде, десятка два завезли специально с целью реакклиматизации, но встретить сразу сотню было полной неожиданностью. Однако факт!
В свой час я наведался в Петропавловске-Камчатском к Хромовских в лабораторию морских млекопитающих. Любопытно мне было, как он отнесся к столь необычному известию.
Отнесся спокойно, как будто и эмоции ему не свойственны.
- Да, в общем, все нормально, все по науке. По-видимому, ежей в Глинке каланы подчистили - и давай потихоньку мигрировать на северо-запад Медного. А оттуда в приличную погоду прекрасно виден Беринг. Каланам же если не виден, так "слышен". Почему не рискнуть? Причем, заметьте, маток с детенышами в переселившемся стаде нет. Это худо: без самок развития стада не жди. Возможно, придется переселять искусственно. - Он немного помолчал, помешивая ложечкой остывший чай, и добавил с легкой озадаченностью: - Вообще поразительно. Ведь за последние сто лет это первое сообщение о таком числе каланов на острове Беринга.)

Залежка каланов
Впрочем, моя задача - лишь сопоставить свидетельства и доводы той и другой стороны, чтобы извлечь из них рациональный смысл. А смысл этот таков, что, когда прирост калана достигнет определенного потолка (видимо, это произойдет раньше на Курилах), они начнут испытывать недостаток кормов. И начнется падеж. И тогда в этот естественный процесс придется со всей осторожностью (памятуя печальный опыт наших предков, уничтоживших почти все сообщество каланов в дальневосточных морях) вмешаться человеку. Но не прежде, чем будут досконально изучены биология калана, загадки его размножения ("Без знания этого, - пишет Алексей Белкин, - уже в недалеком будущем станет невозможным ни определение начальных сроков эксплуатации стада, ни установление допустимой годовой нормы отлова").
Однако биологией калана при такой его пугливости заниматься черезвычайно трудно.
- Вот если бы у меня была кормовая база,- говорит Борис,- ну, скажем, если бы я хоть рыбу мог доставать. Вот тогда я постарался бы до известной степени приручить калана либо лучше парочку. Ничего удивительного, так любого зверя можно приручить. Каждый раз в одном и том же месте оставлять для калана рыбу - и у него вырабатывается рефлекс. Он привыкает. А то какая у меня рыба! Если рыбаки с прохожего катера или кто-нибудь еще даст мне лосося на еду - и то спасибо, в ножки даже поклонюсь. Тут ведь никакой рыбы - вон голец в ручей заходит, но не всегда, да и поймать его еще нужно.
Хотя каланы - основная забота и привязанность Бориса Хромовских, есть у него и не менее важное дело: наблюдение за котиковым лежбищем на другой стороне острова. Раз в пять дней он идет туда в любую погоду. В общем, тут недалеко, за полтора-два часа можно добраться, если бы не сопки... а потом еще берегом по. камням брести...
Кулема, как всегда, впереди - с ним куда веселей карабкаться по глинистым тропам, заросшим лопушистыми листьями зонтичных растений. Но вот Борис торопливо подзывает его и берет на руки: сбоку тропы важно вышагивает куропач. Видно, отвлекает от куропатки, затаившейся где-нибудь в траве.

Залежка тюленей
- Здесь все-таки мало бывает людей, потому они не боятся, - говорит Борис - Вот такую природу я люблю, когда зверь и человек взаимно вежливы, взаимно доверчивы, а охота бывает самой разумной, в пределах строгой необходимости. И человечество к этому придет в конце концов, должно будет, вынуждено будет прийти.
Прошагав еще по береговому навалу камней, останавливаемся: дальше начинается Урилье лежбище, в основном холостяковое, но есть тут и гаремы. Наша задача - пробраться туда поверху незаметно, как следует осмотреться, затем улучить момент и ринуться вниз с палками... да, да, силами двух человек мы должны произвести небольшой отгон. Но только в том случае, если будет надежда прихватить в отгоне одного-двух-трех меченых. Нам нужно проверить метки - откуда пришли эти котики на Урилье?
Подобрав на берегу бамбуковые шесты, взбираемся на кручу в лоб. Лежбище остается где-то внизу, его почти не видно. Теперь нужно немного спуститься и отыскать в бинокль этих меченых, если они есть вообще. Они, конечно, должны быть.
Борис долго шарит по лежбищу биноклем и наконец находит среди холостяков одного меченого. В бинокль видно, как поблескивает на переднем ласте узенькая бляшка.
- "Американец", холера его возьми,- говорит он в раздумье. - С Прибыловых притопал, верно... Или нет? Может, наш, "русский". Громила, а?.. Пожалуй, семилетка, не моложе.
"Американец", нет ли - это можно будет узнать, только прочитав метку. На Юго-Восточном лежбище есть сетка, сверившись с которой, по определенным литерам и цифрам можно безошибочно определить принадлежность меченого котика к тому либо иному стаду.
Семилетка! Попробуй удержи. Да он как рявкнет...
Как бы читая мои мысли, Борис вдруг жалуется:
- Секача пометить, знаете, какое дело? Когда у него вес двести пятьдесят - триста килограммов? - И добавляет простодушно: - Ой, лучше удавиться...
Тем временем под нами останавливается только что вышедший из воды глянцевитый холостяк и как раз с меткой. Прыгнул раз, другой... ближе к обрыву, на котором мы сидим, еще ближе... Не может сразу найти места, где удобней будет подремать.
- Ну еще немного, голубчик,- шепчет Борис- Ну, еще шажок! Вот так, голубчик, вот так. Это ты хорошо улегся. Пожалуй, мы тебя успеем отсечь, прежде чем ты допрыгаешь до воды.
К бамбуку Борис привязал шнур - получилось нечто вроде петли. Петлю нужно накинуть котику на шею, слегка затянуть и прижать его к камням бамбуком. Моей задачей будет дополнительно зажать голову зверю - пусть он грызет мою палку, но даст тем временем Борису возможность наклониться и прочитать метку.
Ползем по траве юзом до самого обрыва - здесь нужно спрыгнуть и бежать очертя голову прямо к воде и поворачивать всех котиков к обрыву, в глубь берега, следя главным образом за мечеными.
И вот Борис дает команду, и я срываюсь вниз, прыгаю на камни (хотя бы не упасть!), вижу только одного кота - того, что недавно улегся, отрезаю его от воды, а тем временем Борис набрасывает на него петлю, но неудачно, петля соскальзывает с ласта, и холостяк прыгает в сторону моря. Бегу за ним следом по осклизлым камням, кот шлепает, разбрызгивая лужи, совсем рядом, и тут я, поскользнувшись на водорослях, падаю, а холостяк убегает вплавь, смешно прогибаясь в воде и подбрасывая каждый раз лоснящийся задок.
Однако не все еще потеряно,- левее нас холостяки не успели сойти в воду. Грозя палками, сгоняем их к обрыву. Тут и подозреваемый Борисом "американец". Даем котам отдышаться и отдыхаем сами.

Тюлененок
Впереди рыкают внушительные секачи - это плохо, попробуй через них прорвись внутрь отгона, где есть один или даже два кота с метками. Зажав отогнанных зверей между большими валунами, оставляем им возможность уходить к воде только одним путем - и на этом пути пытаемся поймать меченого. Он невелик росточком, симпатичен, в его тускло-голубых, как линзы бинокля, глазах неосмысленность и испуг... Он настолько еще мал, что вместе с ним в петлю попадает сосед покрупнее. Вот же не везет! Меченый выскользнул из петли и попрыгал себе, а немеченый остается.
Возвращаемся домой ни с чем. Теперь мы придем сюда через пять дней и повторим эту малоприятную как для нас, так и для котиков процедуру. Впрочем, для котиков она совсем безопасна (но откуда им знать?), зато нам нужно смотреть в оба: зазеваешься или споткнешься на пути отгона - пеняй на себя. Какой-нибудь может так уснуть, что тут же и хирург потребуется.
Несколько лет спустя неподалеку отсюда сорвался вниз со своего наблюдательного места студент-практикант - вздремнул, бедняга... Он упал на камни в самое средоточье котиков, и они его закусали до беспамятства. А стоило ему шевельнуться - снова для порядка покусывали: неподвижный он их не интересовал. Придя в сознание и поняв это, лежал он тихо, прикрывая руками только голову.
Он пострадал жестоко, его долго лечили. Но все-таки - парень с характером, с любовью к избранному делу - он продолжал ездить сюда до и уже окончив институт,- веселый, общительный, шумный... Занимался теми же котиками на этом же лежбище Урильем. Однажды мне довелось даже праздновать здесь день его рождения.
Такие вот нюансики, мелочи жизни. Укусами котиков "помечен" не один ученый-биолог или промысловик - так сказать, вы нас, мы вас, око за око, зуб за зуб!
Вечером начинает задувать сильный ветер - домик сотрясается от его ударов. В щели сквозит и дует. Сходить во двор за дровами - и то неохота: слишком там зябко.
- Ох, с той стороны и поддает сегодня! - ежусь я.
- Да,- усмехается Борис,- Тихий океан сердится немножко.
Он легонько крутит "Спидолу" - слушает мир. И курит трубку, набитую ароматным "капитанским" табаком.
- А газет и журналов вам не доставляют?
Он кивает на транзистор.
- Да я новостей знаю больше, чем те, кто газеты читает.
По вечерам, когда уже стемнеет, но лампу зажигать лень, Борис играет с Кулемой. Он мигает фонариком, дразнит щенка, и тот, обычно редко подающий голос, возбужденно и звонко взлаивает. Затем Борис подсвечивает оранжевый шар, и в избушке становится торжественно-нарядно, как бывает, когда в темноте зажигают лампочки на елке. Кулема прыгает вокруг низко подвешенного шара, бьет по нему лапами - радуется; видимо, понимает, что маленькую эту потеху затеяли ради него.

Каланиха с детенышем
Поддразнивая и лаская щенка, Борис крутит "Спидолу" и вполуха слушает передачу "Тихий океан" из Владивостока. Однако разговор нет-нет да и возвращается к тому, что постоянно занимает мысли: теперь вряд ли удастся пометить каланов.
- Жаль, упустили время, - печалится Борис. - Дождаться бы настоящего шторма. А то ведь легкий шторм они в капусте переждут, капуста гасит волну.
Я говорю, что читал, будто калан в свежую погоду привязывается пластинами водорослей. Потом на таком водорослевом поле можно увидеть множество узлов. Сразу и не поймешь, откуда они появились.
- Где вы увидели узлы на капусте? - пренебрежительно отвечает Борис - Выдумки это все. Да, я тоже читал об этом, но на самом деле ничего подобного в натуре не происходит. Уж больно умным стараются сделать калана иные авторы. А получается, вероятней всего, вот что: поскольку капуста поднимается к поверхности и, ломаясь под прямым углом, стелется по воде, калан подлезает под ее стебли, и его таким образом не сносит. Возможно, он даже наворачивает стебель вокруг себя, поскольку имеет привычку вертеться как бы вокруг собственной оси, спокойно он лежит редко.

Плывущий калан
Алеуты промышляли калана еще до прихода русских. Но, разумеется, насколько он ценен, определить не могли (то же самое и индейцы: какое-то их племя за кипу каланьих шкур стоимостью не менее восьми тысяч долларов выменяло однажды у англичан ржавое зубило!).
Выходили на охоту в апреле - мае, собирая для этого от тридцати до сотни байдарок. Замеченного зверя брали в плотное кольцо, и какая-нибудь стрела все равно попадала в голову, сколько бы он ни нырял. Именно тому охотнику, который попал зверю в голову, и доставалась добыча. Впрочем, зверь бывал иногда настолько изнурен преследованием и легкими, но частыми ранами, что переставал сопротивляться. В такого слабеющего зверя охотник пускал стрелу с надутым пузырем, чтобы не утонул. Охота происходила в полной тишине, нарушаемой лишь свистом стрел. Очень важно было определять всякий раз, в каком направлении нырнул зверь и где он вынырнет, чтобы подстеречь его в этом месте. Раненый зверь, особенно если при нем бывал детеныш, оказывал отчаянное сопротивление, кусался и царапался.
Коцебу свидетельствует, что если охотник замечал в море самку с детенышем на спине, она становилась легкой его добычей. "Дело в том, - пишет он, - что мать никогда не бросит своих детенышей, хотя они и препятствуют ее бегству, а вместе с самцом яростно защищает их от нападения. Оба зубами вырывают из тел бобрят вонзившиеся в них стрелы и даже нападают на преследующих их людей, расплачиваясь жизнью за свою отвагу".
Примерно такого же рода сцены можно найти и в описаниях ружейного промысла каланов, оставленных известным нам Сноу. Однажды его стрелки подобрали труп малыша-кошлока - и каланиха плыла за судном, кружила вокруг него очень долго, издавая горестные крики, "сокрушаясь о потере своего чада".
Смелые охотники-алеуты с Лисьих островов били морского бобра и зимой. В сезон вьюг и штормов он по обыкновению ищет себе укромных местечек в бухтах небольших пустынных островов или на одиноко стоящих поблизости от берега утесах. Убедившись в безопасности, свернется клубочком и спит. Вот тогда-то два алеута, несмотря на бушующие вокруг утеса штормовые волны, подъезжают на однолючных байдарках к утесу с подветренной стороны, и один из них стоя ждет, чтобы подошла большая волна. Вместе с валом он смело выпрыгивает к подножью утеса, подкрадывается к спящему зверю и убивает его. В это время товарищ стережет его байдарку, чтобы ее не разбило о камни и не унесло.
"...Все эти животные были так смирны, - пишет уже Литке, - что промысел их не требовал иного труда, как идти с дубиной вдоль берега и бить на выбор любого. Это было до того легко, по рассказам, что промышленники имели обыкновение играть в шахматы по бобру за партию, но с тем, чтобы проигравший убил на берегу или на отмели именно того бобра, который выигравшим будет назначен. Промышленники утомлялись легкой добычей".
С течением времени промысел каланов все усложнялся, и на смену алеутской "стрелке" ("иглах") и байдарке пришел на острова вместе с Аляскинской компанией ружейный бой с вельботов и охота ставными сетями. Быстрому истреблению каланов способствовала их доверчивость. Когда-то они спокойно шли на огонь костров, брали пищу у человека из рук. Сейчас в это трудно поверить. Видимо, калан усвоил наследственную информацию об опасном нраве человека настолько прочно, что нынче зверя никакими коврижками не приманишь*. Разве только понаблюдаешь за ними издали. За тем, например, как этакий шелковисто-лоснящийся увалень, схватив лапками задний ласт, неутомимо его растирает - возможно, ощущается в ласте что-либо ревматическое. Потом, завалившись на спину, начинает растирать живот и грудь. Потом полежит неподвижно, как бы отдыхая. Потом почешет себе лапкой-кулачком затылок - и вновь примется за массаж, начиная с задних конечностей.
* (Впоследствии в Петропавловске я показал Борису Хромовских фотографию каланов, мирно лежащих на рифе по соседству с тюленями-антурами.
- Редкая ситуация,- заинтересованно сказал он. - Повезло вам. В смысле научном фотография ценная, может, подарите?
Бережно поглаживая глянец снимка, Борис удовлетворенно подытожил:
- После тех гонений - другого слова не подберу, - которые были когда-то на каланов, они сейчас вроде бы немного оттаивают, выработанные самозащитой рефлексы слабеют. Надо же: каланы вместе с антурами! Значит, между ними никакой агрессивности. Понюхал, говорите вы, отошел и улегся себе?.. И совсем без внимания?.. Вот еще с человеком бы так, без опаски...)
Вот он увидел приросшую к рифу гроздь мидий, повернулся на бок и начал быстро ударять по ней кулачками, пока не оборвались удерживающие ее биссусы*. Иногда он перекусывает их зубами. Потом уже без усилий отдирает каждую раковину и поедает ее. Высокой степенью осязания отличаются у него шершавые подушечки лапок - именно с их помощью калан безошибочно находит под водой привычный корм. Мы уже знаем, как он расправляется с ежами (предварительно приминая иглы на панцирях, потом продавливая панцири, чтобы легче было поедать содержимое; иногда он выгребает его в рот лапкой). Известны случаи, когда калан, пытаясь добраться до лакомого моллюска, разбивает чересчур крепкие раковины камнем. Для этого он кладет на живот плоский камень-наковальню, затем на него раковину, а затем ударяет сверху другим камнем. Иногда же просто стучит по той наковаленке, как бы тренируясь, "набивая руку".
* (Биссусы - выделяемые особой железой раковины нити, с помощью которых она прикрепляется к грунту, к донным камням и скалам. )
Забавные повадки животного и особенности его поведения, зависящие, в свою очередь, от особенностей биологии и образа его жизни, создавали предпосылки для того, чтобы выделять каланов по "уму" и "сообразительности". Вообще же, конечно, в известной сметливости им не откажешь.
Нужно идти в очередной поход на Урилье, а потому уже с вечера начинаем гадать, какая будет погода.
Утром лег сырой, липкий, непроглядный туман. Позавтракав, Борис вышел наружу, заметил просвет в низкой облачности.
- А что, немного светлей становится,- сказал он, входя. - Мешок с туманом подходит к концу, наверно. Все равно идти нужно, сегодня срок... Так что собирайтесь.
Нам как будто и впрямь повезло - туман не очень докучает, временами проглядывает солнце. Впрочем, даже в туман подниматься в гору душновато. А ведь в начале века здесь существовал варварский способ отгона котиков. Их гнали от лежбища Урильего до Глинки через два и для человека нелегких перевала, более высокий из которых достигал 234 метров над уровнем моря. Когда я услышал об этом впервые, то отказался верить, заявил, что бред все это... а позже прочитал у Суворова! Дело в том, что в Глинке, кроме жилых домиков, были устроены все разделочные, засольные приспособления, стояли амбары для хранения готовой продукции.

Перевал в бухту Песчаную
Эта "голгофа" котиков не поддается описанию - склоны сопок были завалены их трупами; с трупов снимали шкуры, а ободранные тушки так и оставались гнить, распространяя зловоние и заражая ручьи, текущие из снежников. Еще труднее был отгон из бухты Палата - здесь котиков гнали вверх по крутому склону, кое-где заросшему травой, заставляли мученически взбираться на перевалы до 357 метров высоты и потом уже направляли вниз, в Глинку. Всего пути-то здесь было до трех километров по прямой (для котиков и это невероятно много), но преодоление ими медновского хребта уму непостижимо. Стоит ли поэтому удивляться, что множество их гибло от изнурения и тепловых ударов еще в дороге?
Разумеется, у таких "запаленных" котиков и качество меха неизбежно страдало. Но, возможно, тогда об этом и не подозревали, а следили только за тем, чтобы они "не загорели", то есть чтобы от перегрева не наступила смерть. Потому останавливались через каждые несколько десятков метров, давая зверям возможность остыть. Длился такой отгон, понятно, очень долго - для котиков это была нескончаемая пытка. Обычно промысловики выходили из Глинки в три часа утра и возвращались в четыре часа вечера. Причем только в Глинке можно было разобраться уже спокойно, какой зверь подлежал забою, а какой нет. Часть зверей поэтому отпускали на свободу. Водой они возвращались к себе на лежбище, чтобы иные из них опять попали в очередной отгон, и так до двух-трех раз за лето! Известен случай, когда отгон из Палаты в 1909 году так и не смогли довести до вершины подъема, очень много котиков "загорело", и пришлось перебить всех их в дороге, а потом переносить шкуры в Глинку на себе. Впоследствии, когда зверя изрядно поубавилось, его били прямо на лайде близ лежбища, а мясо и шкуры тащили через перевал опять-таки на себе: роли поменялись в известном смысле. И надо сказать, что этим промысловикам-бедолагам тоже никто бы не позавидовал.
К убойному месту в Глинке обычно собирались с ножами все здесь живущие (а жили семьями), чтобы успеть вырезать лакомые куски свежего мяса, особенно сердце и почки. Ценились и тонкие кишки.
Идем через перевал, одежда нараспашку - душно. Не знаю, о чем думает Борис, а я никак не могу освободиться от мыслей о тех несчастных котиках-"алытинистах". Кулема устал, путается на узкой тропе под ногами. У него шуба тоже не хуже котиковой, даже на вид теплей, потому что мохната; не знаю, какова плотность меха у собаки, у котиков же на одном квадратном сантиметре шкуры растет до 45 тысяч волосков. Правда, трудно представить? Но просто невероятно, что у калана на таком же клочке их примерно 120 тысяч... Умудрится же природа!
Ничего, ничего, сейчас дорога пойдет круто к берегу под уклон. Потерпи, Кулема!
Задача у нас прежняя: подсчитать, насколько увеличилась численность лежбища за те пять дней, что нас здесь не было, и за счет кого преимущественно: холостяки ли приваливают, гаремы ли пополняются. Но главное - поймать хотя бы одного-двух, если не троих сразу, меченых... Опять сосредоточиваемся па исходном рубеже, наблюдаем в бинокль лежбище, считаем на глазок всех холостяков. Распределяем обязанности... Стараемся заранее предусмотреть возможные оплошности и ошибки.
- Приготовиться!.. Марш!!
Холостяки захвачены врасплох. Мы сейчас, впрочем, не гоняемся за мечеными, а берем отгон скопом, прижимаем всех зверей к обрыву. Осторожно "фильтруя" их между двумя глыбами через "решетку" из тех самых бамбуковых палок, наконец зажимаем зверька помельче, а потом, с превеликими сложностями, и другого, покрупнее; он зло грызет бамбук, глаза его налиты кровью. Задавленно хрипит. Ничего, ничего, дружок. Пострадай немного для науки. Это далеко не худшее, что может с тобой здесь приключиться. Твое счастье, что ты облюбовал лежбище, на котором пока не ведется промысел.

Пейзаж в лиловых тонах с ипаткой среди скал
Итак, прочитаны две метки: Е-2931 и С-3317. Как я позже узнал, никакие это не "американцы". Один кот здешний, медновский, а другой вроде с острова Тюленьего, что близ Сахалина.
- Эти метки для меня очень важны, - говорит довольный результатом отгона Борис- Многие утверждают, что Урилье лежбище, если можно так сказать, само в себе. Вот и важно мне узнать, почему оно так медленно растет, в чем причина.
Возвращаемся в Глинку. В последний раз оглядываюсь на Урилье - правда, с подъема виден только берег, а лежбище осталось за выступами обрывов. Некогда захиревшее и вот потихоньку уже восстанавливающееся, оно одно из самых старых на Командорах. Именно здесь, вдали от Глинки, часто промышляли пираты-котиколовы.
- Я вам сейчас покажу место, откуда алеуты обстреливали всех этих, с позволения сказать, флибустьеров, - говорит Борис - Обзор там неплохой, и патронов кругом полно валяется...
Он вывел меня на залысину, из которой выпирает выветрившаяся каменная порода, и присел.
- Вот они, смотрите...
Действительно, здесь россыпью лежат зеленые гильзы от винчестеров и берданок. Лежат безмолвными свидетелями давних перестрелок - и ходят здесь люди, и берут эти гильзы на память, как и я взял, а их все равно не убывает, будто тут настоящая прошла война. Приведу факты, которые убедительно подтвердят, что остров Медный на протяжении многих лет и впрямь находился в состоянии войны если не с Японией как государством - было и это, впрочем, - то уж, во всяком случае, с гражданами Японии, промышлявшими у Командор хищничеством, что называется, на свой страх и риск.
Собственно, налеты японских пиратских шхун начались не шестьдесят и даже не восемьдесят лет назад, а еще в пору описанного Е. К. Суворовым "междуцарствия", а затем и во времена "Гутчинсон-Кооль", при управляющем островами Н. А. Гребницком (о чем он неоднократно доносил генерал-губернатору в Иркутск). Наплыв шхун, тогда не только японских, был воистину массированным. Приходили и ночью и днем, останавливались в местах, где к ним невозможно было из-за крутизны пробраться, и начинали истреблять котиков. А жителям издали ружьями грозили... Однажды в ответ на эти угрозы охранники-алеуты сами начали стрелять из берданок и ружей Шар-пса по особенно наглой шхуне, оказавшейся в зоне прицельного огня. Причем алеуты вверху, на скалах, были укрыты за камнями. А вот шхунам и шлюпкам хищников досталось крепко: от мачт, бортов, дверей кают полетела щепа. В людей старались не стрелять, но, видимо, кто-то и пострадал. (Пробоины в шлюпках гребцы затыкали кусочками сала, припасенными заранее). Выкинув белый флаг, шхуна подняла шлюпки на борт и отошла - Чтобы высадить своих людей в другом месте. Иногда на берегу скапливалось одновременно до шестидесяти вооруженных хищников!
Охрана, конечно, не могла поспеть везде - и каково же было смотреть потом на следы чудовищного разора, на сотни ободранных тушек!
В ноябре 1881 года, в глухую штормовую осень, не выдержали медновцы и пошли на вельботе и байдарках к острову Беринга - заявить, что они не в состоянии защитить свои лежбища и просят помощи у правительства. Донося об этом в Иркутск, Гребницкий хлопотал и о том, чтобы алеуты получали компенсацию за потери и убытки,- ведь продают же конфискованные шхуны с аукциона во Владивостоке! Однажды он своей властью отдал алеутам восемь конфискованных вельботов. Е. К. Суворов возмущается: "Все, что жители захватывали у хищников - шлюпки, оружие, компасы, шкуры,- все это поступает в собственность казны и продается (кроме шкур) тем же самым алеутам. Спрашивается, есть ли какой-нибудь смысл алеуту подставлять лоб под пули, рисковать своими шлюпками, столь необходимыми на Медном, когда он твердо знает, что ничего от конфискованного имущества не получит".
Правительство выделило впоследствии охранное судно - сперва одно, потом крейсировало здесь другое, потом, кажется, и третье, но нерегулярно, так что общего положения беззащитности лежбищ это не меняло.
Как и следовало ожидать, русско-японская война застала острова врасплох. К обороне здесь ничего не было подготовлено. Защита Командор волей-неволей легла на плечи тех же плохо вооруженных алеутов. И надо сказать, что эта задача была выполнена ими с честью.
Характерен эпизод, происшедший на острове Беринга в самом начале войны. Караульщики близ Северного лежбища заметили какое-то судно. Присмотрелись внимательней - японское. Вскоре оттуда к берегу отошла шлюпка. На носу белый флаг - с мирными целями, значит. Алеуты стрелять не стали.

Глупыши-буревестники
Беспрепятственно высадившись, японцы подошли к караульщикам. Был и переводчик, говорил на ломаном русском, реденькие усики пощипывал, в любезной улыбке расплывался. Доложил, что японцы хотят осмотреть лежбище в научных целях.
А караульные еще не знали, что идет русско-японская война, и потому против "научных целей" ничего возразить не могли. Даже наоборот - пожалуйста, занимайтесь своей наукой. Опустили винтовки, кое-кто уже и на предохранитель поставил свою... Между тем совершенно напрасно ослабили они бдительность и поняли это лишь тогда, когда "ученые" окружили караул, отобрали ружья и связали всем руки назад. А после этого "ученые" на глазах у безоружных алеутов взялись поливать места котиковых залежек керосином. Мало им показалось - стали стрелять по лежбищу из подвезенной пушки, сгонять зверей в воду. Увлеклись своим черным делом, а в это время одному алеуту удалось незаметно отойти. Двадцать четыре километра до Никольского он бежал через тундру со связанными сзади руками. И тем неожиданней было для японского десанта стремительное нападение подоспевших на выручку островитян. Нигде не нашли японцы спасения, всех перебили, кто сошел на берег, да вдобавок захватили трофей - шлюпку с пушкой.
Но все же основную тяжесть конфликта с японцами вынесло на своих плечах население Медного. Уездной администрации в ту пору на Командорах, можно считать, не было. Н. А. Гребницкий мотался по заграницам. Он писал из Лондона медновскому старшему надзирателю Николаю Никитичу Лукину-Федотову: "В случае прихода военных японских судов о вооруженном сопротивлении не может быть и речи... вы должны заботиться только о поддержании авторитета русской власти и достоинства". Ученый-натуралист, Гребницкий не мог оставаться равнодушным к судьбе бобрового стада и в письме своем уточняет: "...главное внимание должно быть обращено на охрану бобров. В случае нападения японских промышленников (промысловых шхун японцев. - Л. П.) не следует стесняться стрелять".
Лукин-Федотов вооружил жителей Медного чем только мог - вплоть до дробовиков - и приготовился защищать остров до последнего патрона.
В 1905 году остров Медный успешно отразил нападение высадившегося с четырнадцати (!) шхун вооруженного японского десанта; правда, этой бандой много было уничтожено котиков и песцов. В 1908 году японцы сожгли в Глинке караульную юрту, разворовали разную хозяйственную утварь, забрали три тонны угля. Годом позже Глинка вновь подверглась нападению и разграблению.
Но алеутам и родная земля помогала: неизвестно ни одного случая, чтобы в перестрелке был убит или хотя бы ранен алеут, зато японцы всегда несли тяжкий урон в людях. Вот цифры: с 1906 по 1910 год (хотя война и окончилась, налеты японцев на Медный продолжались и достигли своего апогея именно к 1910 году) произошло семьдесят семь перестрелок, в результате которых островитянами было захвачено пятнадцать шлюпок, арестовано сорок шесть и убито девяносто восемь хищников. Повторяю, что благодаря умело организованной обороне не пострадал ни один защитник Медного.
Впоследствии 68 жителей Медного, принимавших участие в отражении пиратских нападений японцев, были награждены медалями на Георгиевской ленте и знаками отличия Военного ордена, то есть Георгиевскими крестами, а доблестный отставной фельдфебель Лукин-Федотов за свою безупречную и мужественную службу был произведен в подпоручики. И очень жаль, кстати говоря, что нет никакого достойного мрамора на его могиле в селе Преображенском, ныне заброшенном. Лежит лишь ржавая расколотая плита "От товарищей, сослуживцев и почитателей".
А ведь сколько решений принято Алеутским райисполкомом относительно упорядочения этого кладбища, вообще об охране памятников старины. Тут и памятников этих раз-два и обчелся... Сколько было сказано депутатами благих слов и внесено предложений. Говорил на эту больную для меня тему и я... Но инерция повседневности, сиюминутных забот каждый раз отвлекала командорцев, не до духовного было, не до памяти о своем дорогом недавнем. А кто же мы без этой памяти, без святого волнения перед тем, что есть наша история, без уважения к предкам? Иваны, не помнящие родства?..
Нет уж, не хлебом единым...
Я взял на память парочку позеленевших гильз с залысинки, и мы спустились в бухту Бабичева. Было солнечно, и Борису захотелось подробней ознакомить меня со своими "владениями". Места эти не посещались людьми, вероятно, годами, живописная их пустынность подавляла... Горы добра, выброшенного морем: корабельного леса, бочек, анкерков, ящиков, скомканных нейлоновых тралов, спасательных кругов, буев пластмассовых и стеклянных поплавков, костей и хребтов разнообразных морских зверей, - горы такого вот не то добра, не то хлама громоздятся здесь и невольно привлекают внимание. Хочется что-то искать, ворошить, потому что, без шуток, много здесь лежит и нужных в хозяйстве вещей и уж, во всяком случае, таких, что настраивают воображение на романтический лад, будоражат его.
Клочьями поплыл туман, и волей-неволей пришлось возвращаться домой. Потом просветлело. Потом, когда мы уже спустились к домику, туман опять наплыл, навалился, только уже с другой стороны.
- Ерунда какая-то,- бормочет Борис с неудовольствием. - Дергает эту вонючую сырость туда-сюда, с одной стороны острова на другую. Как будто нельзя дунуть сразу и прогнать туман весь.
Вскоре "дунуло сразу": начинается волнение, начинается шторм. В белых барашках прошел гораздо мористее Глинки сейнер, повез шкурки в Преображенское. Пора и мне собираться туда же. Только для этого нужно возвратиться назад на Юго-Восточное лежбище и дождаться очередного сейнера: они ходят между лежбищем и селом довольно часто, пока промысловая пора.
На обратном пути обошлось без приключений. Солнечно, остров просматривается далеко, а кроме того, за семь дней снежники и наледи порастаяли, идти здесь уже можно свободно, без подстраховки со стороны. Словом, иду, песни пою и вспоминаю добром неделю, прожитую в Глинке. Потом я стану бывать в ней часто - и всегда это будет как праздник, как некое приобщение к редкому дару природы, который не всякому дано увидеть и постичь, к пестроте каких-то даже яростных, вдохновенно размашистых красок.
|
ПОИСК:
|
© GEOMAN.RU, 2001-2021
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://geoman.ru/ 'Физическая география'
При использовании материалов проекта обязательна установка активной ссылки:
http://geoman.ru/ 'Физическая география'